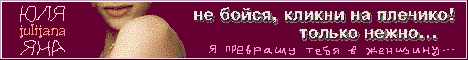Часть 1. Мама
Мама тоже всегда молчала. Иной раз ее спрашивали: О чем ты думаешь? Ни о чем, - отвечала она. И это была правда. Все тут, при ней, - о чем же думать? Ее жизнь, ее заботы, ее единственный ребенок просто-напросто были при ней, а ведь того, что само собой разумеется, не ощущаешь. Так было и в тот вечер. Когда я ей призналась. Тогда она опустилась на стул и смутным взглядом растерянно уставилась на меня. Вокруг нее сгущается ночь, и во тьме немота ее полна безысходного уныния, я едва различала угловатый силуэт, худые, костлявые плечи: мне страшно. Но мне трудно плакать перед лицом этой немоты. Я жалею мать - значит ли это любить? Она никогда меня не ласкала, она этого не умеет. И вот долгие минуты я стою и смотрю на нее. И чувствую себя посторонним и оттого понимаю ее муку. Мне кажется - что-то встрепенулось внутри, какое-то смутное чувство, наверное, это любовь к матери. Что ж, так и надо, ведь, в конце концов, она мне мать.
Мать вздрогнула. Испугалась. Странная мать, такая равнодушная! Только безграничное одиночество, переполняет мир, помогает мне постичь меру этого равнодушия.
- Зачем тебе все это, - словно эхо звучат ее слова, - что я скажу людям.
И она беззвучно зарыдала.
Внезапный испуг для нее кончился кровоизлиянием в мозг. Меня вызвали с работы. Когда я примчалась, она уже лежала в постели. Врач посоветовал не оставлять ее одну. Я прилегла подле нее на кровати, поверх одеяла. Было лето. Жаркая комната еще дышала ужасом недавно разыгравшейся драмы. За стеной слышались шаги, скрип дверей. В духоте держался запах уксуса, которым обтирали больную. Она беспокойно металась, стонала, порой вздрагивала всем телом. И я, едва успев задремать, просыпалась вся в поту, настороженно приглядывалась к ней, потом бросала взгляд на часы, на которых плясал отраженный огонек ночника, и вновь погружалась в тяжелую дремоту. Лишь позднее я постигла, до чего одиноки были мы в ту ночь. Одни против всех. Другие спали в этот час, когда нас обоих сжигала лихорадка. Старый дом казался пустым, нежилым. Где-то прошла машина, и ней иссякла надежда, какие пробуждают в нас люди, пропала уверенность, которую приносят нам городские шумы. В доме еще отдавалось эхо мимо погревшей автомашины, потом все угасло. И остался лишь огромный сад безмолвия, где порою прорастали пугливые стоны больной. Никогда еще я не чувствовала себя такой потерянной. Мир растаял, а с ним обманная надежда, будто жизнь каждый день начинается сызнова. Ничего больше не существовало - ни честолюбивых замыслов, любимых красок. Осталось только болезнь и смерть, и они затягивали меня: И, однако, в тот самый час, когда рушился мир, я жила. И даже, в конце-концов, уснула. Но все же во мне запечатлелся надрывающий душу, полный нежности образ этого одиночества вдвоем. Только сейчас, только в этот миг вспомнился мне смешанный запах пота и уксуса, вспомнились минуты, когда я ощутила узы, соединяющие меня с матерью. Словно безмерная жалость, переполнявшая мое сердце, излилась наружу, обрела плоть и, не считая себя самозванкой, добросовестно исполняла роль дочери старой женщины с горькой судьбой.
Все просто, все очень просто при свете окон; в ночной прохладе, в долетающих до меня звуках ночного города. Если этот вечер ко мне возвращает образы, как не принять урок, который они дают, урок любви и нежности. Этот час - как бы затишье между ДА и НЕТ, а потому я отложу надежду и отвращение к жизни. Да, надо только принять прозрачную ясность и простоту потерянного рая, заключенную в одном лишь образе.
Мы сидим молча друг против друга. Прекрасная улыбка освещает ее лицо, почти не трогая губ.
- Ну, как, мама?
-Да так, ничего. Ты лучше скажи, она знает о твоем решении.
-Да.
- Она приняла.
-Нет.
- Вы расстались.
-...
Она сидит на краешке дивана, ступни плотно сдвинуты, руки сложены на коленях. Молчание. Да, правда, что еще можно сказать? В молчании все проясняется.
- Знаешь, мне когда-то сказали: Жить так трудно и самая горькая ошибка - заставить человека страдать, - говорит она и замолкает. Ее взгляд устремлен куда-то далеко.
В окно вливается все, чем дышит улица. Слышен шум уличного движения, нарастающие к вечеру. Мать встает, берет вязание. У нее неловкие пальцы, изуродованные артритом. Она вяжет медленно, по три раза принимается за одну и ту же петлю или распускает весь ряд. Он смотрит на меня смущенным взглядом, словно извиняется передо мной.
- Нынче рано становится прохладно. Да и время не так тянется.
Она встает, зажигает свет.
- И темнеть стало рано. Ты уже уходишь.
- Нет, почему ты это спрашиваешь?
- Просто так, надо же что-то сказать.
Что-то удерживает меня в этой комнате, если не уверенность, что все к лучшему, то бессмысленная простота мира.
Через месяц ее не стало.
Куда придет эта ночь, в которой я больше не принадлежу себе? Есть нечто опасное в слове пустота. И как отделить нынешнюю пустоту от комнаты из прошлого? Я уже сама не знаю, живу или только вспоминаю. И сегодня ночью я понимаю: в такие минуты хочется умереть, потому что видишь жизнь насквозь - и тогда все теряет значение и смысл. Человек страдает, на него обрушивается несчастье за несчастьем. Он все выносит, свыкается со своей участью. Его уважают. А потом однажды вечером оказывается - ничего не осталось; человек встретил друга, когда-то близкого и любимого. Тот говорит с ним рассеянно. Возвратясь домой, человек кончает самоубийством.
Мне необходима ясность мысли. Да все просто. Люди сами все усложняют. Пусть нам не рассказывают сказки. Пусть не изрекают о тех, кто ушел: Она стала жертвой общества, А скажут просто: Она ушла. Кажется, пустяк. Но все-таки не совсем одно и то же.
И потом, есть люди, которые предпочитают смотреть своей судьбе прямо в глаза.