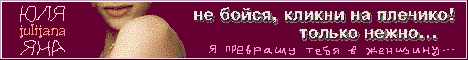1.
Я – Юля. И сегодня ему отомщу. Я еще не знаю, что я с ним сделаю, но сегодня, но сегодня же... сегодня же... он пожалеет! Он сам станет мной. Такой же, как я. Он поймёт, что это такое, когда стоишь, обиженная и оставленная, и ветер треплет на ветру шёлковую юбку, и неснятые любимой... или уже нет?... рукой трусики под ней так несексуально и зло впиваются кружевами в ягодицы! А потом идешь, расстроенная, и... И он почувствует на себе, что такое! что это такое, когда... но почему я так возбуждена? Почему сейчас, когдая думаю, как заколдую его в этот вечер, у меня в лифчике, в этом так возбуждающем его предмете, который ему тоже теперь придётся носить – я заставлю! – творится такое?
Ну и пусть. И пусть что у нас теперь будут РАЗНЫЕ парни, зато мы будем близки, как никогда...
Ты лежишь. Ты скоро уснешь. Ты спишь. И ты не знаешь, что я уже здесь. Я не удержалась, и все-таки тяпнула тебя за палец, и ты сбросил бедного Тимошу с своих коленок, даже не подозревая, что в душе своей он уже давно не Тимофей, а волшебница и колдунья Юля, которая не потерпит такого к себе пренебрежительного отношения! Я тут пытаюсь нормальным кошачьим языком объяснить, что будь же со мной поласковее, а то твои движения руки стали уж больно настырными, а нас, понимаете ли, за это за шкирку и на пол скидывают!... Ну, постой! Забравшись под кровать в самый темный угол, дождёмся, пока все в доме заснут, и приступим к колдовству.
Сверкая заигравшими в свете луны изумрудным цветом глазами, бесслышно выберемся из своего укрытия, и, одним легким прыжком оказавшись на кровати, начнём медленно подкрадываться на мягких подушечках лап, таящих острейшие кинжалы, к изголовью своего обидчика... обнюхаем холодным и влажным треугольничком носа приставшую к твоей щеке прядь волос, затем нос и губы, испугавшись твоего чиха в ответ на щекотание нашей гордости-усов, мигом сиганём обратно под кровать!... вновь всё стихло, прыжок, прогулка по твоей ноге, животу и груди до лица - ты спокойно спишь, ни о чем не подозревая - тогда поворот, вниз знакомой дорогой по груди к животу и ногам, сворачиваемся там клубочком, и, уставившись на пробивающийся сквозь окно и заливающий всю комнату холодный и отрешенный свет луны, заводим свое шаманское хрипение - сначала совсем тихо, а потом всё громче, громче и громче!
Дождавшись, пока забьют в колокол на далекой часовне, хорошенечко потянемся, растянувшись в длину чуть ли не на километр от ушей до кончика хвоста, отыщем укушенный палец, и медленно и тщательно его оближем до самого основания своим шершавым язычком, втирая волшебную жидкость в твое тело, и продолжая до тех пор, пока ты не сжимаешь руку в кулак, сам себя приговаривая этим на принятие нашего дара-проклятия...
Сделав свое дело, удобно устраиваемся у тебя в ногах, и, погружаясь в сон, сладко зевая всеми своими остриями, злорадно предвкушаем, как мы будем нахально улыбаться, увидев выражение твоего лица завтра утром!
... Едва сомкнув глаза, и успев всего-то навсего увидеть пару жирных лиловых мышей, сказки о которых ему намурлыкивала когда-то давно его милая кошка-мамочка, в пушистое тепло животика которой ему и по сей день иногда так хочется уткнуться, Тимка проснулся, почувствовав, как ты зашевелился, сладко потягиваясь в постели. Продрав глаза, я вспоминаю нашу вчерашнюю ссору, и опять становится до боли обидно, но, увидев свои аккуратные мягкие лапки, и поиграв прячущимися в пухленьких подушечках иголками коготков, настроение сразу же улучшается – я ему отомстила! Ты ещё в полудреме, и ещё ничего не знаешь, но я уже катаюсь по твоим ногам, играя хвостом и заливаясь беззвучным хохотом от предстоящего зрелища! Интересно, когда ты начнёшь замечать, что ты уже не тот, кто был ещё только вчера, и теперь и тебя точно так же, как ты сделал это вчера со мной, могут оставить посреди улицы стоять с полном недоумении и беззащитной заброшенности, и ты точно так же, как я, узнаешь, какое это чувство, идти одной под осыпающим с ног до головы градом бессовестно оценивающих взглядов оборачивающихся на тебя мужчин, и не встречать среди них того единственного, от которого ты просто млеешь и теряешь власть над собой...
... Присев в постели, ты протягиваешь руку, чтобы почесать Тимофеича под горлышком, но она застывает на полпути под твоим оторопелым взором. Это твоя рука, ты её чувствуешь, ты трёшь себе глаза и больно щипаешь себя за запястье, ты вскрикиваешь от боли, но видение не проходит. Оторопело ты рассматриваешь свои ладони – они твои, сомненья нет, но вместо таких привычных тебе широких кистей-лопат с загрубевшей кожей ты видишь две маленькие ладошки, бледно розовеющие в утреннем свете, с тонкими пальчиками и безупречным маникюром. В твоих широко открытых глазах я вижу вопрос и непонимание, ты словно застыл, но луч солнца, блеснувший всеми цветами радуги на перламутре лака, покрывающего твои аккуратно закругленные ногти, выводит тебя из оторопения. Ты вздрагиваешь, и, срывая с себя одеяло, выскакиваешь из постели и мчишся в прихожую к большому, чуть ли не от земли до потолка, зеркалу. Я бегу за тобой, мешаясь у тебя под ногами, но ты ничего этого не замечаешь, ты вглядываешься в свое отражение, и земля начинает уходить у тебя из-под ног. Ты хватаешься за косяк двери, и видишь, как кто-то напротив тебя в зеркале с бледным от ужаса лицом очень медленно открывает рот, хватая судорожно воздух, и через мгнование из твоих легких вырывается истошный крик, почти мгновенно переходящий в нестерпимый визг. От неожиданности Тимофей перепугивается чуть ли не до смерти, и шарахается на всех скоростях на кухню. Запнувшись, острые когти смывающегося котенка больно царапают тебя за босую ногу, от этого ты перестаешь визжать, но тело у тебя вдруг становятся как из ваты, и ты медленно съезжаешь на пол, не имея сил оторваться глазами от своего отражения, смотрящего так же безотрывно на тебя из зеркала...
Это ты, сомнений нет, всё те же иссиня-чёрные, слегка вьющиеся волосы, всё та же короткая стрижка, всё те же узнаваемые черты лица – но всё как-то неуловимо изменилось, как бы сдвинулось со своего такого привычного места, как будто бы неведомая рука своевольно поправила и уложила хорошенькую чёлочку, выщипала в дуги-стрелочки бровки, начисто выбрила твою тёмную щетину, с которой тебе иногда так лень расправляться по утрам... Да что там выбрила – от неё не осталось и следа! Смотрящее на тебя из зеркала лицо покрывает такая нежная, слегка бархатистая и чуть-чуть тронутая загаром кожица, о которой невозможно даже предположить, что её когда-то разрывали растущие изнутри, в жёсткости своей почти металлические стержни. Да и само твоё лицо – когда-то чуть не идеал мужской красоты, по которому сохло и разрывалось на части не одно девичье сердце, смягчилось и преобразилось, как будто бы кто-то губкой стер с него все излишние подробности и грубоватые черты, оставив на нем лишь самое трепетное и прекрасное в своей свежести и утончённости линий: ровный высокий лобик, нежно розовеющие щёчки, припухлые, налитые сочной краской губки и аккуратно закругляющийся идеальной дугой подбородок. Только глаза, огромные тёмно-серые глаза с длиннейшими ресницами, позавидовать которым могла бы каждая красавица, остались такими же бездонными и прекрасными, как и прежде. Но только сейчас, хватаясь своим взглядом за их отражение в зеркале, как за единственную спасительную соломинку, говорящую тебе о том, что всё, что с тобой происходит – реальность, ты вдруг сразу же понимаешь, ты просто знаешь как само естество, что глубина твоих глаз – омут, полный колдовства и чар, и каждый, кто хоть раз окунется в него поглубже, захлебнется и потеряется в нем раз и навсегда, и никогда уже не станет прежним...
Я вылезаю из своего укрытия, и взбираюсь тебе на колени, громка мурлыча и проталкивая мордочку тебе под кисти, как бы умоляя, чтобы ты провёл ладошкой по моей пушистой шубке. Оцепеневший, ты словно во сне опусаешь руку, чтобы привычным движением подцепить меня под живот, но что-то мешает свободному ходу твоей руки. Что-то упругое и теплое мягко касается её, целиком укладываясь в сгибе локтя, пружинистую податливость чего ты чувствуешь всей внутренней поверхностью своего бицепса, или, по крайней мере тем, что осталось на его месте – тонкой и нежной девичьей рукой, полудетскую мягкость которой не в силах испортить никакие гири и гантели. Тебе вдруг приходит в голову, что самое большое, что когда-то могли поднимать эти руки, могла бы быть лишь набитая очаровательными сокровищами вперемешку со всяким хламом женская сумочка, а никак не наполненные сверх краёв самыми необходимыми в хозяйстве вещами баулы, от тяжести которых стреляет в пояснице, или тот пудовый топор, которым ты на даче колешь дрова, набивая уродливейшие мозоли себе на ладонях.
В замешательстве ты, наконец-то, отрываешь взгляд от зеркала, сковавшего тебя настолько, что кроме своего лица, к твоему ужасу хранившего на губах следы плохо стёртой помады самого модного в этом сезоне оттенка, и стрижки «под мальчика», так чудесно подчёркивающей насыщенность цвета и густоту твоих чёрных волос, ты не видел и не чувствовал ничего больше. Ты проводишь пальцами по своим губам, и внимательно рассматриваешь запачкавшую их, тускло поблёскивающую краску, ловя себя на мысли о том, что не можешь хорошенечко припомнить, куда был засунут в последний раз батончик этой помады – в театральную сумочку, в сумочку «для просто выбежать», или же она валяется у тебя на туалетном столике, а, может быть, просто закатилась за монитор?... Очнувшись, ты фыркаешь, и, усмехаясь, чешешь меня за ухом: «Что, Тим Тимофеич, кажись, мы с тобой совсем уже спятили? Может, у нас с тобой и бурдень какая-нибудь или Vogue на столике завалялась, и юбок полон шкаф?…» - но мысль о возможной необратимой потере настолько взбудораживает и почти до слёз раздражает тебя, что ты не выдерживаешь, и бежишь обратно в спальню, где, перевернув всё вверх дном, наконец-то находишь драгоценный, наполовину уже использованный штифтик среди гор заколок, резиночек, гребешков, расчёсок, тампончиков, шпилек, булавок, брошек, серёжек, цепочек, бинтиков, ленточек, пилочек и Бог его знает ещё чего, хранящегося в недрах бездонного ящика туалетного стола, к Тимкиному безграничному сожалению тщательно запираемому от его любопытных лап на поворот ключа.
Немного успокоившись, ты вглядываешься в своё отражение в трюмо, и, поправив спавшую на глаза прядку волос, красиво уложенной волной фиксируешь её сбоку серебристой заколкой, а заодно и освежаешь краску на губах, то старательно складывая в округлое «о», то выпячивая ротик, слой за слоем накладывая сначала помаду потемнее, затем проведя аккуратный контур выдвинутым ровно на полтора миллиметра глиммерстиком, и завершаешь всю операцию, с удовольствием чмокнув зажатый между губ бумажный косметический платочек с рельефным бордюром по краю, покрывая подсушенные таким образом губки лёгкой и мягкой помадой с перламутровым блеском, которую ты наносишь специальной тонкой и длинной кисточкой с прозрачной стеклянной палочкой-рукояткой. Удовлетворённо рассматривая результат сначала в увеличивающем зеркальце, затем в трюмо, ты вдруг вспоминаешь ощущения кожи твоей руки, там, в прихожей.
Очнувшись и скользнув взглядом вниз, к разрезу отороченной тончайшим кружевом ночной сорочки, от самого факта присутствия которой на твоём теле ты вдруг начинаешь чувствовать, что твои руки пробирает дрожь, ты видишь, что из ямки на твоей груди расходятся две округлые дуги, выступающими холмиками приподнимающие и натягивающие тонкую до полупрозрачности ткань. Словно в полусне, едва сдерживая бешено трепещущее сердце, ты боязливо дотрагиваешься до своей новой груди, но ничего страшного не происходит, и ты пробуешь нажать посильнее. Твои небольшие, целиком помещающиеся в ладошки грудки послушно поддаются нетерпению рук, а, освободясь от их объятия, наперегонки стараются принять свою чудесную, в меру округлую, в меру заострённую форму. Осмелев, ты сильно нажимаешь свою грудь со стороны сосочков, но вместо упругости всей остальной её поверхности ты чувствуешь что-то твёрдое и ускользающее у тебя из-под пальцев, и почти в ту же секунду вскрикиваешь от пронзающей тебя невыносимой боли! Хватая себя за груди, ты пытаешься окольцовывающим сжатием ладоней хоть немного успокоить разрывающую соски и обитающие под ними твёрдые островки-треугольнички чувствительную болезненность, и хоть немного разобраться в охватившей твой разум путанице мыслей...